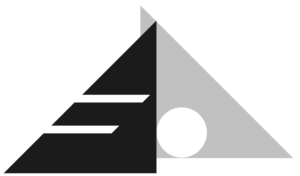Лиду я похоронил во вторник. День был необычно ясный для октября, с холодным солнцем, от которого слёзы на глазах высыхали, едва появившись. Земля была твёрдой, и комья, что я бросал на крышку гроба, стучали сухо, как камни.
В пустой избе всё кричало о ней: платок на стуле, недоконченное вязание у печи, запах ванили и сушёных трав, навсегда въевшийся в стены. Мы прожили здесь тридцать лет — смех, споры, молчание вдвоём. Теперь осталась лишь оглушающая тишина.
Болезнь унесла её за три дня. Она становилась всё тише, прозрачнее, будто её вымывало из мира. Врачи разводили руками — ни температуры, ни кашля, просто необъяснимое увядание.
Первая неделя была туманной. А ровно через семь дней в дверь постучали. На крыльце стояла Лида. Живая, в том же платье, только чистом, с румяными щеками и ясными глазами. Я подумал о чуде.
— Я дома, Стёпа, — сказала она.
Но страх пришёл сразу. Голос был слишком громким и гулким, словно рожденным не из горла, а из воздуха. Она села у окна и не шевелилась. Днём не ела, не пила, кожа прохладная, запах лесной, а память — без чувств, как у машины.
На третью ночь она ушла в лес, за ней вышли трое других, мёртвые. Я пошёл к бабке Дарье, она сказала: лес забирает души, а людям остаются лишь эхо. Можно жить с этим эхо или отпустить его, оторвав по-настоящему.
Следующей ночью я увидел, кто был с ней. Все они мертвы. Тогда я понял: Лида — ловушка, призрак, который тянет за собой. Последней ночью она подошла ко мне, протянула холодную руку и пригласила идти с ней.
Утром я решил отпустить её. Вечером разложил на полу её вещи, письма, память.
— Я люблю её, — сказал я, — и отпускаю.
Огонь занялся, существо в кресле задрожало, голос превратился в пустой гул. Оно стало прозрачным, пахло лесом и тленом, и растворилось в ночи. Я остался один. Изба снова пахла старым домом и остывающей золой.
Тишина вернулась, теперь чистая и горькая. Я впервые заплакал по настоящей Лиде. В этих слезах было облегчение. Я снова один, но свободен и готов пережить любую зиму.