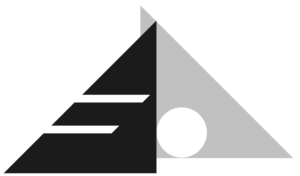Лиду я похоронил во вторник, в ясный и пронзительно холодный октябрьский день. Сухие комья мёрзлой земли гулко стучали по крышке гроба, и этот звук казался окончательной точкой, после которой не остаётся ничего, кроме пустоты.
Вернувшись в избу, я долго сидел за столом, не в силах пошевелиться. Дом был наполнен её присутствием: платок на спинке стула, корзинка с недовязанным шарфом, лёгкий запах трав и ванили. Мы прожили здесь тридцать лет, и каждая деталь напоминала о прожитых днях. Тишина, опустившаяся после похорон, давила сильнее любого крика.
Болезнь забрала её стремительно и необъяснимо. За три дня она словно истаяла, становясь всё тише и прозрачнее. Врачи не находили причин: ни жара, ни боли, только угасание. Это бессилие пугало больше самой смерти.
Через неделю после похорон, когда за окнами сгущались ранние сумерки, в дверь постучали. На пороге стояла Лида — в том самом платье, в котором я её хоронил. Лицо её было румяным, взгляд ясным, а одежда чистой. На мгновение я поверил в чудо.
Однако радость сменилась тревогой, едва она заговорила. Голос был её, но звучал гулко и странно, будто рождался не в горле, а прямо в воздухе. Ночью она сидела неподвижно у окна и не дышала. В её присутствии не было тепла, только холод сырой земли.
Дни проходили одинаково. Она не ела и не спала, отвечала на вопросы без чувств и воспоминаний о смехе или боли. С наступлением темноты в ней появлялось беспокойство. На третью ночь я проследил за ней до опушки леса.
Там её ждали ещё трое — люди, умершие раньше. Они обменивались странными вибрирующими звуками, похожими на протяжное пение. Картина была нереальной, но слишком отчётливой, чтобы списать её на наваждение. Страх окончательно вытеснил надежду.
Старая Дарья из соседнего дома выслушала меня молча. Она сказала, что лес иногда «зовёт» людей и оставляет вместо них пустую оболочку, чтобы облегчить чужую тоску. Эти слова звучали как сказка, но происходящее совпадало с каждым её объяснением. Передо мной стоял выбор — жить с этой тенью или отпустить её.
Решение пришло тяжёлым и холодным утром. Я собрал письма, платье, прядь волос — всё, что хранило настоящее тепло Лиды. Когда огонь коснулся бумаги, фигура в кресле дрогнула. Гулкий звук разнёсся по комнате, а её очертания начали таять.
Она отступила к двери и растворилась в темноте, словно дым. В доме исчез запах сырости и леса, осталась лишь зола и привычная тишина. Эта тишина была горькой, но живой.
Я впервые позволил себе плакать по-настоящему. Боль не исчезла, но стала ясной и человеческой. Я остался один, однако больше не чувствовал ловушки. Впереди была долгая зима, и теперь я знал, что смогу её пережить.