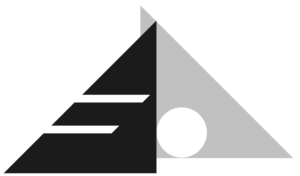Лиду я похоронил во вторник, в день с неожиданно ясным октябрьским небом и холодным, беспощадным солнцем. Земля была твёрдой, и каждый ком, упавший на крышку гроба, отзывался сухим стуком, будто я бросал вниз не почву, а камни.
Когда я вернулся в избу, тишина обрушилась сильнее, чем на кладбище. На стуле по-прежнему лежал её платок, у печи — недовязанная кофта, а в воздухе стоял запах ванили и сушёных трав, въевшийся в стены за тридцать лет совместной жизни. В этом доме остались наши разговоры, редкие ссоры, долгие вечера без слов — и теперь всё это звучало пустотой.
Болезнь забрала её стремительно и почти без признаков. За три дня она словно растворилась, становясь всё слабее и прозрачнее. Врачи не находили причин: ни жара, ни кашля, только тихое угасание, которое нельзя было остановить.
Первая неделя прошла как в дымке. Я плохо спал, путал дни и почти не выходил во двор. А на седьмой вечер в дверь постучали.
На крыльце стояла Лида — живая, с румянцем на щеках и ясными глазами. На ней было то же платье, в котором я её хоронил, только чистое и аккуратное, без следа земли. «Я дома, Стёпа», — сказала она спокойно, будто возвращалась с обычной прогулки.
Сначала я решил, что передо мной чудо. Но чем дольше я смотрел на неё, тем сильнее поднимался страх. Голос звучал гулко и слишком ровно, кожа была холодной, а за словами не чувствовалось ни радости, ни боли, ни привычного тепла.
Днём она сидела у окна и почти не двигалась. Не ела, не пила, не интересовалась тем, что происходило вокруг. От неё тянуло запахом сырого леса, а взгляд казался пустым, словно память сохранилась, а чувства — нет.
На третью ночь она вышла за порог и направилась к лесу. За ней, как тени, двинулись ещё трое — люди, которых я недавно провожал в последний путь. Тогда я пошёл к бабке Дарье, и она сказала, что лес иногда возвращает не души, а их эхо.
«С эхом можно жить, — сказала она, — но оно всегда будет тянуть за собой». Эти слова не давали мне покоя. Я начал понимать, что передо мной не Лида, а что-то, принявшее её облик.
В следующую ночь она подошла ко мне и протянула руку. Пальцы были ледяными, а голос — тихим и настойчивым, словно зов издалека. Она предложила пойти с ней, и в этот момент я окончательно понял: это не возвращение, а ловушка.
Утром я решил отпустить её по-настоящему. Вечером разложил на полу её вещи, письма, старые фотографии — всё, что связывало меня с прошлым. Я вслух сказал, что люблю её и отпускаю, даже если останусь один.
Когда огонь занялся, фигура в кресле задрожала. Голос превратился в пустой гул, очертания стали прозрачными, и запах леса сменился запахом тлена. Через несколько мгновений в избе никого не осталось, кроме меня и остывающей золы.
Я впервые заплакал по настоящей Лиде, а не по её призрачному отражению. В этих слезах было и горе, и странное облегчение.
Теперь я снова один в старом доме. Но эта одиночество больше не тянет за собой в темноту. Я знаю, что переживу любую зиму, потому что отпустил то, что должно было уйти.